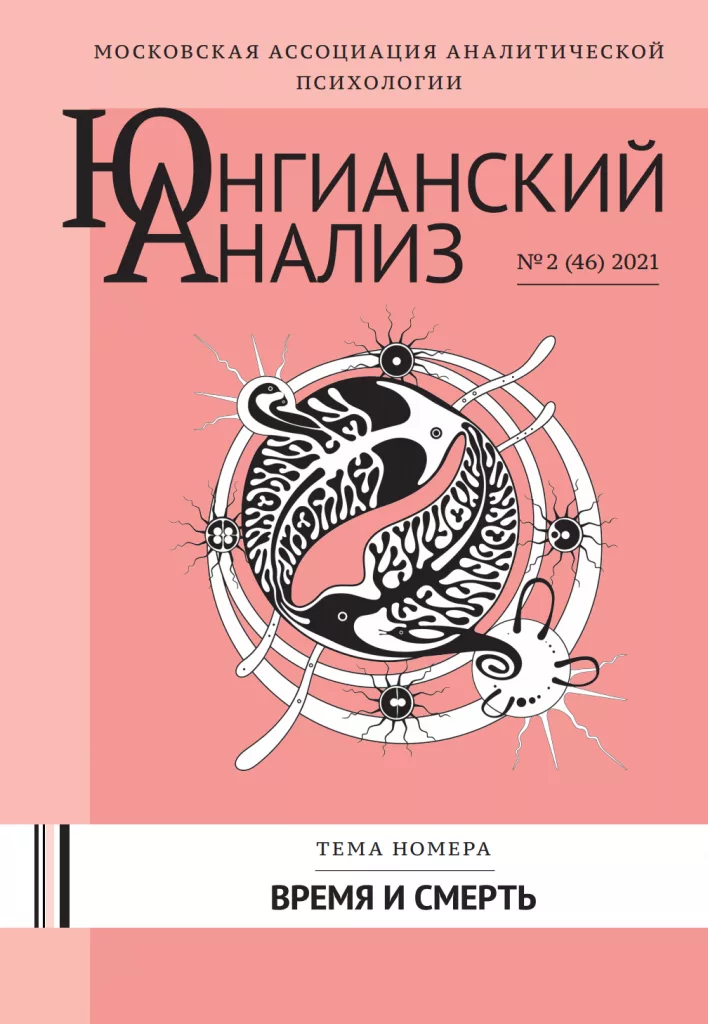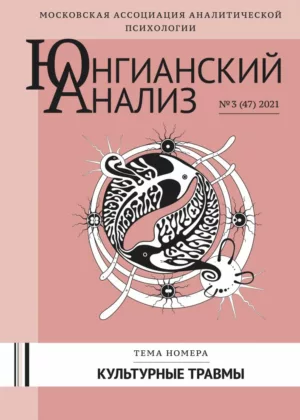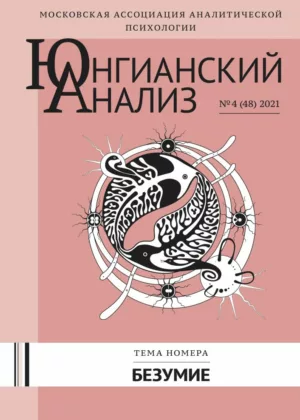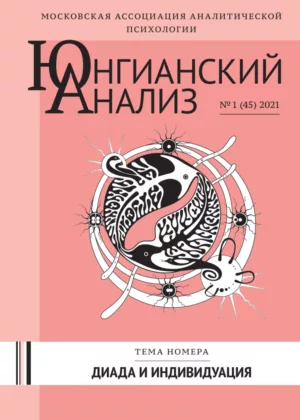«Уж сколько их упало в эту бездну, // Разверстую вдали! Настанет день, когда и я исчезну…» Этот номер посвящен тому, что неумолимо и безвозвратно ограничивает нашу жизнь и неизбежно влияет на нее – времени и смерти. Болезненное столкновение с собственной конечностью переживается нами, как и всем человечеством, сейчас и всегда. Время пандемии вынуждает к осознанному отношению к смерти, она вновь становится частью жизни, учителем, помощником, тем, что позволяет придать ценность жизни. Помня о смерти, провожая близких навсегда, мы пересматриваем наши отношения со временем, которое отпущено для бытия среди живых. Смерть – жестокий наставник, но она делает нас более зрелыми и ответственными, дает возможность научиться трудному искусству находиться в моменте, в «здесь и сейчас», и заставляет думать об остающихся.
Суметь рассмотреть смерть как переход в иное бытие, принять ее трудные ритуалы – наш профессиональный долг. Сейчас наши пациенты приносят в аналитический процесс горевание, фобии, попытки избежать встречи с неизбежными прощаниями. И нам надо принять этот вызов, повернуться лицом к неизвестности, ждущей каждого. Каждый уйдет в коллективное бессознательное, каждый в неведении об отпущенном времени.
Основную идею номера задает не публиковавшееся ранее эссе Юнга «Душа и смерть» – важные размышления о ценности смерти для работы души, потому что смерть – не «просто конец пути», но также «цель и свершение». Яркой иллюстрацией такого рода душевной работы является статья Кай Ли Вильямс: она описывает опыт переживания смерти очень близкого человека и тот процесс собирания и доращивания себя, который приходится делать после смерти – и оставшемуся здесь, и, вероятно, ушедшей душе там. Личный ракурс этой темы продолжает статья Юлии Казакевич: она рассматривает образы бессмертия и размышляет о содержании индивидуации на этапе заката жизни.
Неожиданный клинический взгляд на тему смерти предлагает Питер Мадд: он утверждает общность смерти с рождением и связывает переживание смертности с трансцендентной функцией, а важной задачей аналитических отношений считает обучение умиранию. Сергей Дремов также рассматривает смерть как продолжение жизни. Он привлекает обширный мифологический материал и развивает идею Юнга о страхе перед смертью, связывая его с непрожитой травмой, когда человек отбрасывается в лиминальное пространство и остается там навеки, воспринимая как угрозу все, связанное с изменениями.
Особая ценность юнгианского взгляда на смерть – в дифференциации Эго-позиции и позиции Самости, психической целостности по отношению к конечности бытия. Об их перетекающей друг в друга природе мы прочитаем в статье Сергея Моргачева, завершающей его публикации о природе психики. Удерживая разницу позиций сознания и бессознательного, мы можем последовать за пределы бытия в процесс трансформации с совершенно неопределенным исходом. И нам просто приходится это делать, когда происходит катастрофическое преобразование коллективной реальности, о чем нам рассказывают Ирина Борисюк, Илана Лах и Нина Хребтова.
Важной репрезентацией конечности и необратимости смерти является время. Лидия Сурина и Татьяна Каблучкова рассматривают его архетипическую природу и показывают, как феномены времени влияют на индивидуацию.
И пока мы живы, нам важно увидеть, с кем мы рядом в нашем профессиональном духе. Мы запускаем серию интервью, очерчивающих географию российского юнгианства, и познакомимся поближе с частью наших уральских коллег. Впереди же новые встречи…
Юлия Власова, Мария Лосева, Елена Пуртова