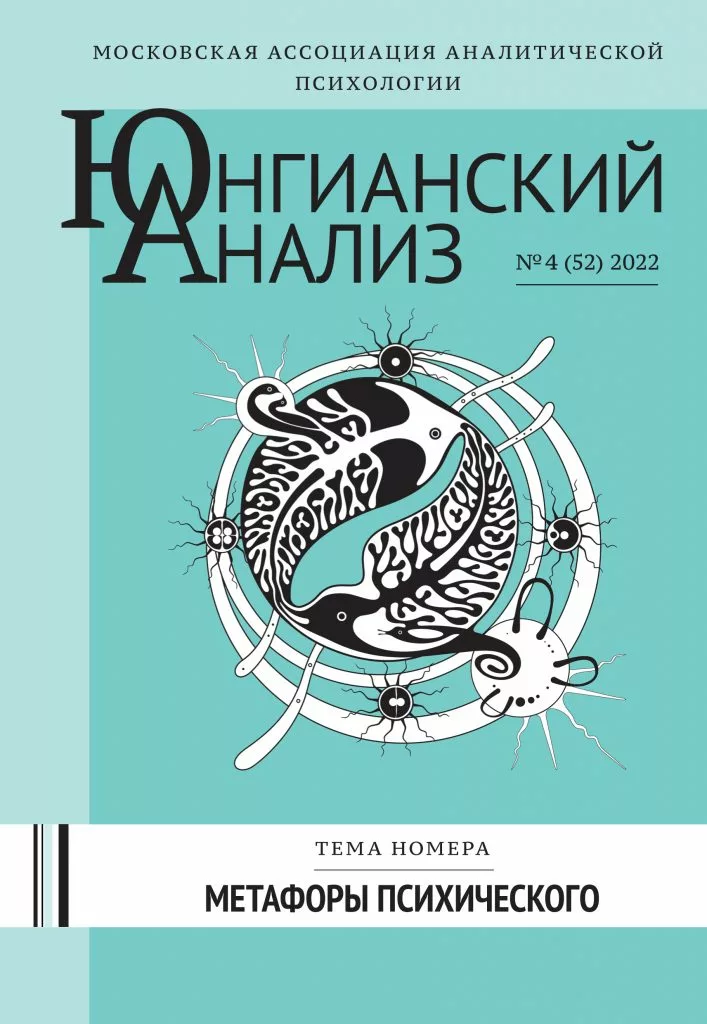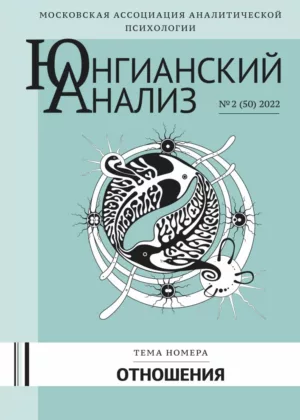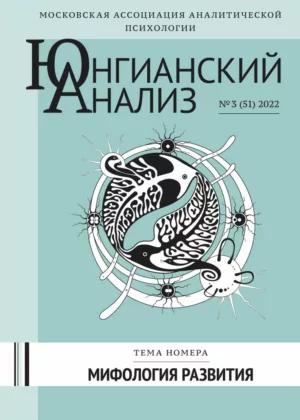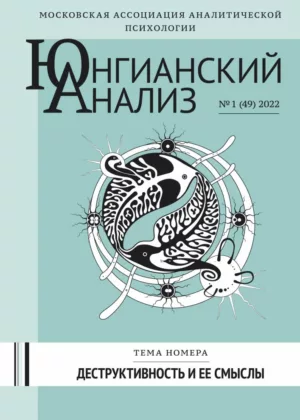Содержание статей, собранных в этом номере, задает такую метапозицию, с которой мы видим юнгианскую теорию как часть планетарного сознания, а психику человека – как системную единицу природного мира. Такой способ видеть мир можно сопоставить с экопсихологическим сознанием, поэтому вместо привычных нам понятий авторы говорят о фракталах, самоорганизующихся системах, эмерджентности и прочих механизмах существования Вселенной, репрезентацией которых являются архетипы человеческого бессознательного.
Таким образом, мы оказываемся в мире символов и метафор, где «принцип и явление сливаются, не теряя природы каждого из них»1, аналогично описанным Ш. Бодлером «Совпадениям»:
Природа – дивный храм, где ряд живых колонн
О чем-то шепчет нам невнятными словами,
Лес темный символов знакомыми очами
На проходящего глядит со всех сторон2.
Метафора – это иносказание, когда одно явление объясняется через другое путем обнаружения общих и отличительных признаков. Природа психики описывается терминами, которые понять достаточно сложно (мы как раз завершаем рубрику, посвященную этой интригующей теме). Например, Д. Чалмерс ищет нередуктивное объяснение сознания, и дает прекрасную метафору: «Существует объяснительная пропасть <…> между функциями и опытом, и нам нужен объяснительный мост, чтобы ее преодолеть». Вот так, по мостам метафор мы и будем двигаться по этому номеру.
Доклады С. Наказавы и Дж. Кембри с Международного конгресса IAAP, посвященного anima mundi, – впечатляющие примеры метафор ризомы как коллективного бессознательного и лемматических наук как самой возможности видеть мир целостным. Этот «лемматический взгляд» мы встречаем далее в работе Д. Свейн, которая пересматривает кундалини как трансцендентную функцию, обнаруживая в ней дионисийское начало в психике, включающее разум и тело, маскулинное и фемининное сознание.
Экопсихологическое сознание разворачивается в исследованиях культуры американских индейцев. Антрополог Э. Кон рассказывает о «лесном мышлении» – сосуществовании и коммуникации в единой экосистеме с природой, когда язык природы воспринимается не как иностранный, но как тоже родной, а Д. Мерритт показывает, как сезоны, ландшафты и даже погода становятся носителями трансцендентной функции – для тех, кто умеет быть в отношениях с ними.
Возвращаясь к образу метафор-мостов, можно сказать, что самые грандиозные мосты выстраивает Дж. Хогенсон. Он удерживает невидимые параллели природных, экономических, социологических и психических явлений, легко перемещаясь между юнговским жуком-скарабеем и теорией самоорганизующихся систем. Автор подтверждает юнговскую идею о том, что увеличение символической массы в архетипической области приводит к явлению синхронии, совпадению внутреннего и внешнего миров, что может кардинально изменить человеческую жизнь. В практически ориентированных статьях В. Захаровой и Н. Новиковой мы видим описание подобного символического потенциала, когда маленький терапевтический шаг может запустить масштабный внутренний процесс.
Как обычно, последний номер года завершается обзором важных событий в российском юнгианском сообществе, и нас ожидает возвращение к темам и образам летней конференции МААП – ЮА и размышление о новом проекте онлайн-конференций «Школа амплификации». Напомним читателям, что образ мостов станет темой следующей «Школы амплификации» в 2023 году. До встречи на мостах наших проектов!
Мария Лосева, Елена Пуртова
1 Синити Наказава. Лемматические науки о разуме: потенциал Сутры цветочной гирлянды.
2 Шарль Бодлер. Соответствия. Перевод К. Бальмонта.