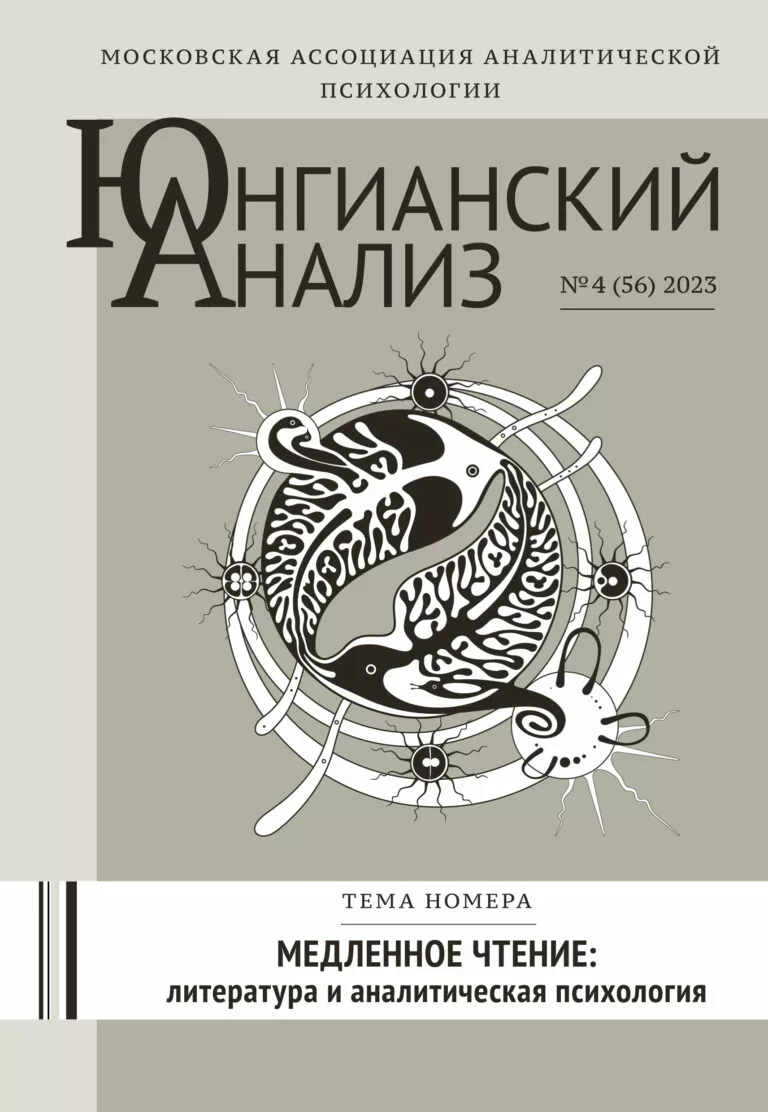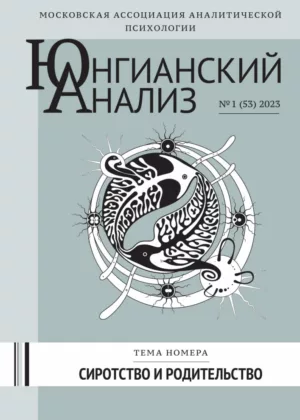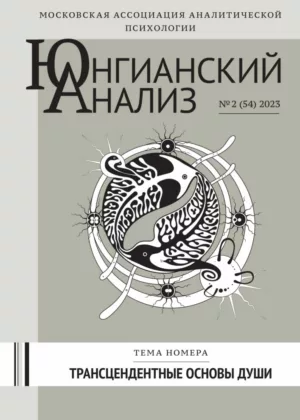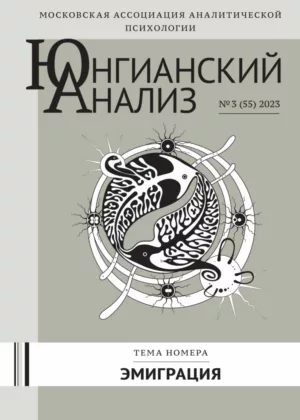Ведущая мелодия этого номера – литература как предшественница, старшая сестра аналитической психологии. Их родство очевидно, но редко бывает признано и обозначено. И если так, то тогда чтение – тоже аналитическая работа со всеми ее взлетами и падениями, позитивным и негативным контрпереносом, трансформацией и индивидуацией в конечном счете. Туда ведут нас авторы – первые скрипки, задающие тему номера. Кристиан Гайар размышляет о юнговском взгляде на искусство, объясняя, что Юнг учит нас обращаться с искусством как со сновидениями, не интересуясь происхождением текста из биографии автора, позволяя тексту и произведению живописи пройти сквозь душу читателя/зрителя. Он рассказывает о признании и принятии Юнгом своего негативного контрпереноса в столкновении с текстом Джойса, о том, как позволить «подспудному потоку жизни» (бессознательному) вовлечь себя в процесс психического созидания, невзирая на сопротивление и страх дестабилизации.
Для лучшего понимания этого подхода к литературе Сюзан Роуланд предлагает методику пристального чтения, основанную на активном воображении и проживании текста в контакте с символом, когда тексту дается возможность не обращаться к читателям, а говорить через них. Только так может случиться трансформация, и это, по мнению автора, похоже на магию.
В следующих трех статьях Юнг представлен как бы снаружи, увиденный глазами других людей. Первое эссе о встрече с Юнгом написано Гербертом Уэллсом, а второе – биографом Уэллса Винсентом Боумом, который наблюдал их вдвоем. Сюда же примыкают отрывки дневника Мигеля Серрано, который записывал диалог между Германом Гессе (клиентом Юнга) и К. Юнгом. Чудо в том, что диалогу этому Серрано не был свидетелем – он его восстановил, достроил или придумал. Отнесемся к этому как к своего рода сновидению, а «сновидение никогда не говорит, что “Вы должны” или “Это правда”. Оно представляет образ почти таким же способом, которым природа позволяет цветку расти, и от нас зависит, какие делать выводы» (Юнг).
Далее нам предоставляется возможность попрактиковаться в том, чему мы научились. Самый большой раздел номера состоит из статей, связанных с русской и японской литературой, где в центре внимания – путь индивидуации сквозь коллективные и индивидуальные травмы и комплексы.
Александр Эткинд фокусируется на культурных травмах и обращается к творчеству постсоветских писателей – преимущественно Пелевина, Сорокина и Быкова, привлекая эссе Фрейда «О жутком». В жуткое окунает образ тритона: в романе Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» заключенные выдолбили доисторического тритона из вечной мерзлоты и съели его. Таким же образом вышеозначенные авторы размораживают вечную мерзлоту травмы, насыщают «тритонами» свои произведения, оживляют монстров прошлого.
Японские культурные травмы становятся призмой для анализа индивидуации героя в «Трилогии Крысы» Харуки Мураками, который делает Ирина Тертицкая. Она подробнейшим образом исследует, как герой на протяжении четырех романов (и только четвертый, «Дэнс, дэнс, дэнс», позволил автору завершить трилогию) проходит путь от индивидуализма к индивидуации.
Подобную работу делает герой романа «Подросток» Ф.М. Достоевского, внутренний ландшафт которого наполнен российскими культурными комплексами. Мария Лосева исследует образы птиц в «Подростке» и обнаруживает их символическую связь с внутренними архетипическими образами героя – матерью, отцом и т.д. Очеловечивая их, Подросток проходит свой пусть взросления.
Завершает этот раздел работа Елены Федоровской, она обращает нас к японской культуре хайку и ее терапевтическим возможностям. Автор напоминает нам о символическом потенциале любой культуры и том, как мы можем опираться на него в сложных индивидуационных процессах.
Завершающее номер эссе Елены Пуртовой о путешествии по Монголии – зарисовки наблюдений за тем, как ландшафт влияет на внутреннее состояние души. Как пристальное чтение позволяет тексту пройти сквозь душу, так и «пристальное смотрение» позволяет ландшафту пронизать смотрящего и получить удивительный опыт согласия с тем самым «подспудным потоком жизни».