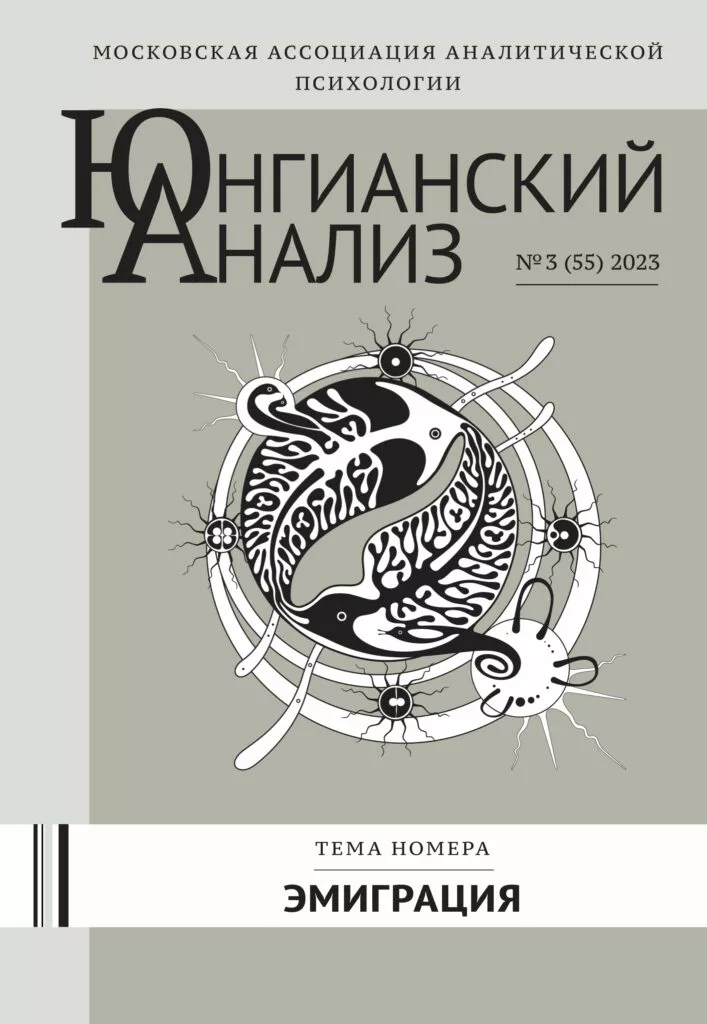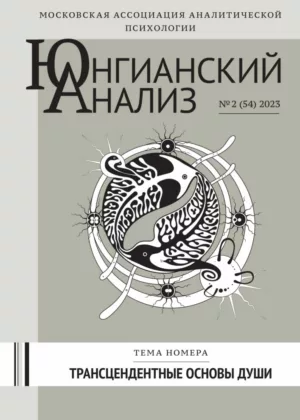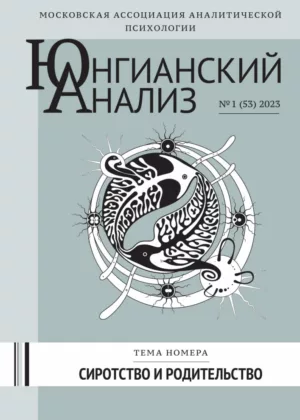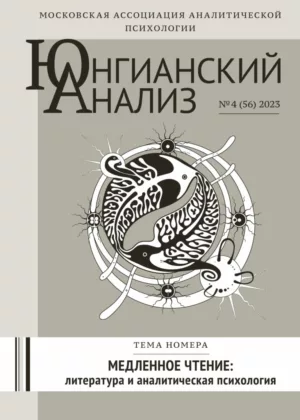Принесла залетная молва
Милые, ненужные слова:
Летний сад, Фонтанка и Нева.
Вы, слова заморские, куда?
Здесь шумят чужие города
И чужая плещется вода.
Вас не взять, не спрятать, не прогнать.
Надо жить, не надо вспоминать,
Чтобы больно не было опять.
Не идти ведь по снегу к реке,
Пряча щеки в пензенском платке,
Рукавица в маминой руке.
Это было, было и прошло.
Что прошло – то вьюгой замело,
Оттого так пусто и светло.
Раиса Блох, 1932 г.
Эмигранты, иммигранты, репатрианты, релоканты, переселенцы, возвращенцы и невозвращенцы, перемещенные лица, гастарбайтеры… А ты кто будешь такой? Миграция – удел практически всех. Не так много людей, родившихся и состарившихся в одном и том же городе, районе, доме, квартире. «Я выселен с Арбата, // Арбатский эмигрант, // В Безбожном переулке // Хиреет мой талант. // Я выдворен, затерян // Среди чужих судеб, // И горек мне мой сладкий, // Мой эмигрантский хлеб» – Булат Окуджава удивительно точно передал чувства мигранта, потерявшего вместе с пространством идентичность и связь с потенциалом бессознательного.
Почему так происходит? Ренос Пападопулос рассказывает, что утрата дома создает брешь в психике, а наличие дома способствует удержанию противоположностей, противостоит расщеплению. Лишившись дома, человек лишается и внутреннего дома и тогда имеет дело с тем, куда он попал – между разрушенным домом и еще не появившимся новым домом, на территории между, на территории утрат и страданий. Психиатр и психолог Жозеба Ашотеги, создатель психологической службы помощи беженцам и мигрантам, исследует особенности современной миграции и предлагает назвать переживаемое ими страдание «синдромом Улисса».
В номере мы старались исследовать самые различные аспекты эмиграции: страдание и трансформацию, прошлое и настоящее, историческое и символическое, личный и терапевтический опыт.
Юлия Казакевич амплифицирует историю Лота и прослеживает связь с многочисленными мифологическими сюжетами, воплощающими различные части психики, сопоставимые с «брешью» Пападопулоса. Вивьен Тибадье изучает образы утраченной родины в психике потомков эмигрантов. В клинических виньетках она наблюдает всплывающую на поверхность память об изгнании, забирающую часть психической энергии.
Важно удерживать взгляд и на потере, и на продуктивной, творческой стороне взаимообмена с новой родиной. Так, Тереза Айелло рассказывает об эмиграции в Америку европейских психоаналитиков и их исключительном влиянии на развитие американской психиатрии и психоаналитической практики.
Трое коллег, переехавших во Францию и работающих с иммигрантами (К. Бине, Л. Кальдера, Э. Францини-Сориа) делятся собственным эмигрантским опытом и историями своих клиентов и размышляют о заново собранной идентичности – аналогично костюму Арлекина, сшитого из разных клочков. Анна Фонарева рассказывает о своей работе с эмигрантами текущей волны, а Кристоф Ле Мюэль описывает внутренний сновидческий процесс, позволивший ему справиться с переездом в другую страну.
Но почему же немалые группы людей делают выбор в пользу утраты дома? Сергей Моргачев исследует образ Гекаты, утверждая, что она еще и богиня выбора между светом и тьмой, которая символизирует одну из важнейших функций человеческой психики – быть между, делать выбор. Но на «быть между» не все подписывались, часто выбор делается не самим человеком, а обстоятельствами. Елена Пуртова рассматривает пять волн русской эмиграции как бессознательные слои коллективной психики, влияющие на каждого из нас: так живет внутри нас история страны, рода, семьи, и это влияет на выбор каждого – уехать или остаться, сделать свою эмиграцию буквальной или символической. А далее – оглядываться назад, как жена Лота, насильственно завоевывать через грех свое будущее, как их дочери, искупать свой грех, как сам Лот.
Мария Лосева, Елена Пуртова