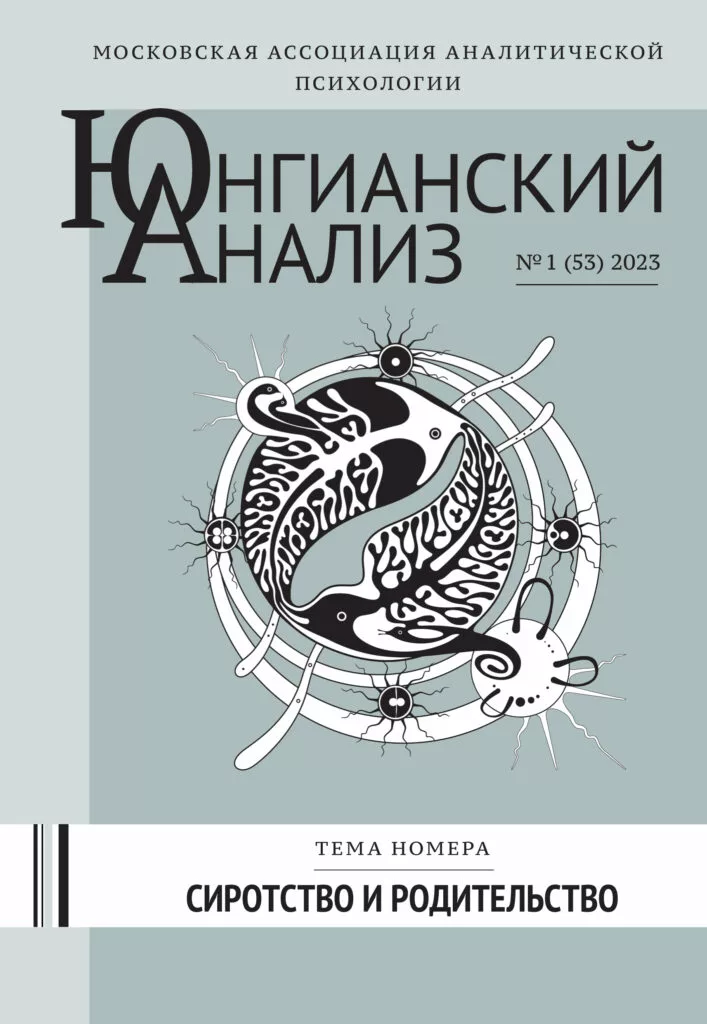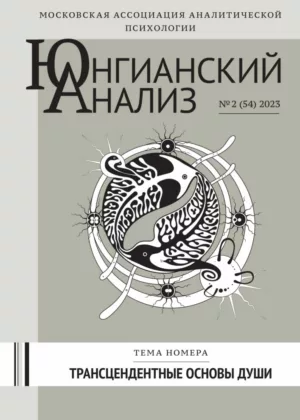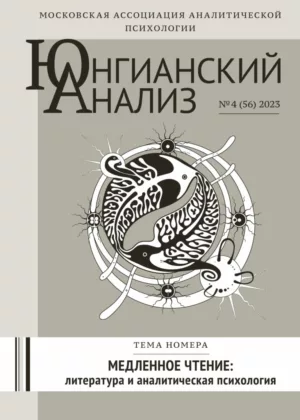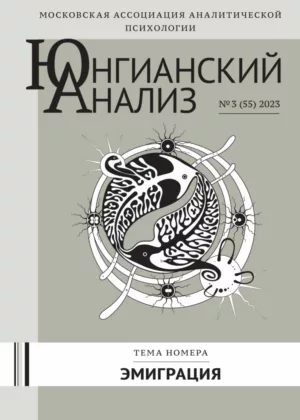Наблюдая в терапевтической практике за страданиями детей и взрослых, мы ловим ощущение, что естественные связи между поколениями претерпевают катастрофические преобразования – так много взрослых переживают невозможность естественного рождения ребенка и так много детей чувствуют свое сиротство рядом с живыми родителями! Те и другие одинаково сильно переживают оставленность, невзаимность и отсутствие связи. Этот парадокс нашей цивилизации, его зримое отражение в аналитическом кабинете исследуют авторы номера. Виктория Андреева рассматривает архетипическую основу сиротства и делает вывод, что «сиротство составляет предварительное условие сознательного переживания индивидуации». А с современным наполнением известного архетипического сюжета, когда все в паре есть, только ребеночка нет, нас знакомят авторы статьи «Бесплодие не равно бездетности». Как не вспомнить Катрин Аспер, которая говорит, что оставленность – это судьба, судьба и ребенка, и взрослого, которая не определяется конкретными обстоятельствами их жизни1!
Куда приводят нарциссические раны и страстное желание родительства? Статья Анны Телепиной рассказывает о работе с приемными семьями, о тенденции приписывать негативные стороны приемных детей их кровным родителям. Клинические виньетки о детях-ЭКО мы встретим у нескольких авторов этого номера.
Отдельный раздел посвящен детям-Пиноккио – тем, кто растет с ощущением своей искусственности (ЭКО) или кто выращивается отцами в отсутствие матери (статьи Брижит Аллен-Дюпре, Валерия Миллера, Марины Колевой и Вероники Петровой). Рассматриваемые авторами истории «осиротевших» отцов поднимают важную тему отцовства как психической функции, которая может оставаться недоступной для взрослых мужчин.
Необходимость работы с родителями маленьких пациентов бесспорна. Кай фон Клитцинг поднимает историю взаимодействия самых первых детских аналитиков с родителями, начиная от «Маленького Ганса», и рассматривает трудные родительские чувства во взаимодействии с аналитиком: сопротивление, соперничество, ревность и вину. Станут ли родители помехой или поддержкой терапевтическому процессу, часто зависит от способности самого аналитика к триадным отношениям. В статье Питера Блейка мы выныриваем на территорию сознания, так как автор очень ясно и четко дает подробные инструкции для проведения родительских встреч и предусматривает все возможные для обсуждения вопросы.
Отличные иллюстрации той реальности, в которой находится детский аналитик, приведены в статье Ангелики Штеле: это ребенок, его родители и все их внутренние объекты, которые аналитик должен «удерживать» в себе, принимая все их переносы и не позволяя им смешиваться. Автор рассматривает эти сложные констелляции на примере трех пациентов разного уровня нарушенности.
И в завершение – еще одна статья Брижит Аллен-Дюпре, обобщающая развитие детского анализа во Франции и его влияние на юнгианский анализ. Надеюсь, наши читатели тоже открыты такому влиянию.
1 Аспер К. Психология нарциссической личности. Внутренний ребенок и самооценка. – М.: Когито, 2013.