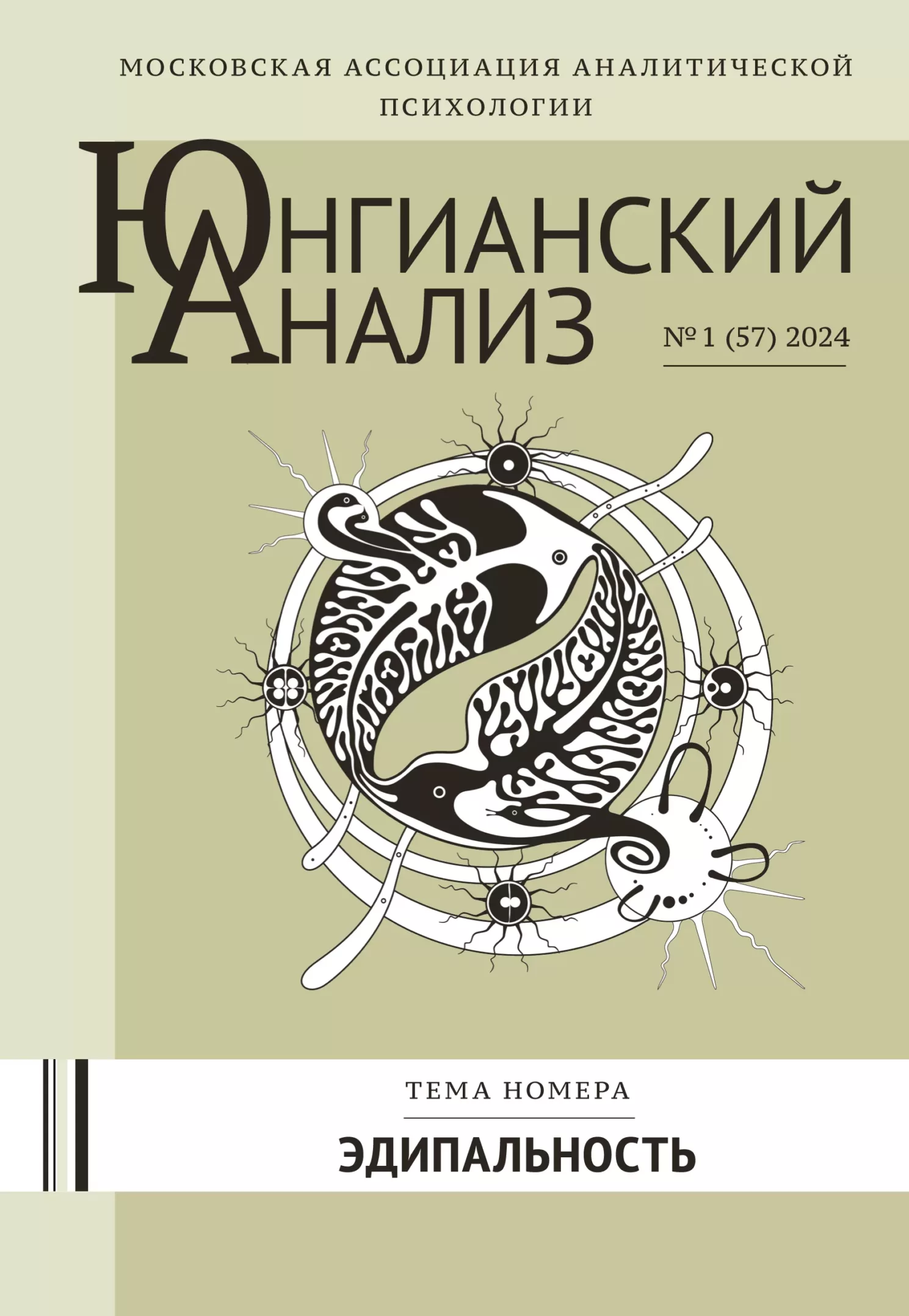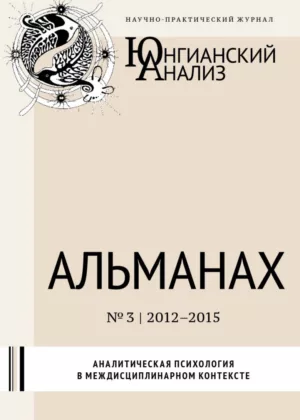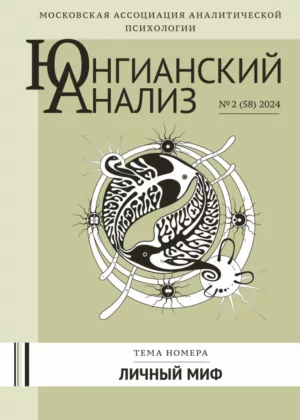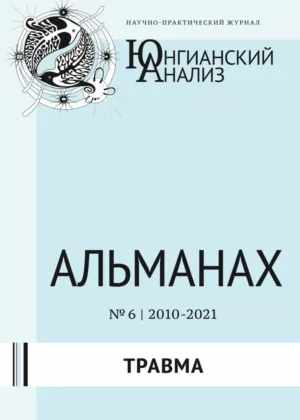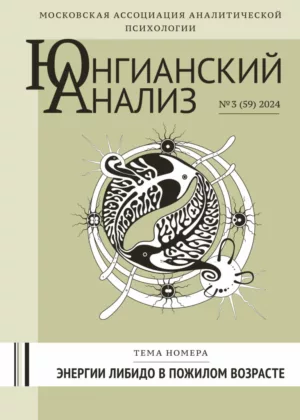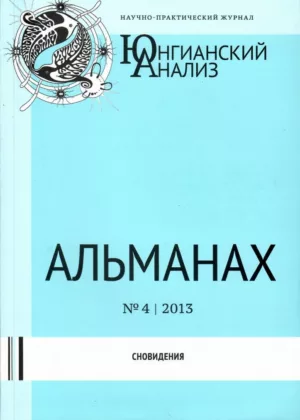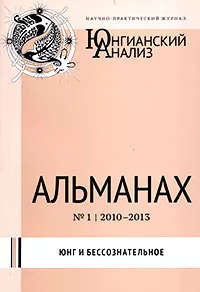При изучении темы эдипального развития время от времени среди студентов возникают сомнения и вопросы – а не устарел ли психоанализ?
Обычно эти реакции отражают напряжение, возникающее на сопоставление «как и когда должно быть» и «как у меня»? Любая информация о нормах психического развития может стать болезненной темой, которая вызывает множество защит. И все-таки – в каком соотношении находятся возрастные нормы развития и ошеломляющие темпы социальных изменений? Можем ли мы сказать, что современная культура существенно меняет содержание сексуального развития детей и подростков? Или – на что именно влияет культура, а что остается архетипически неизменным?
Обратимся к тому, как создавались представления об эдиповом комплексе: Б. Аллен-Дюпре рассказывает истории маленького Ганса и Анны – «первых детей психоанализа», работа с которыми воплотилась в идеях о содержании детского сексуального развития. Мы увидим, как интерпретативный метод Фрейда дополнился наблюдающим подходом Юнга, что дало пространство естественным процессам Самости.
В другой работе тот же автор иллюстрирует эту тему случаем четырехлетней Евы, вместе с которой мы совершим путешествие по разнородным потокам эдиповой ситуации. Этот, и последующий кейс пятилетнего мальчика Бенни (статья И. Таверна) показывают, что сложности эдиповой ситуации – и в разнородности внутренних задач, и в том, что ребенку часто приходится решать одновременно задачи предшествующих этапов развития, осложненных неблагополучными обстоятельствами жизни. Однако именно в этом и есть триумф эдипальности – уникальный шанс разобраться и с тем и с другим, обрести идентичность и выстроить такие психические структуры, на которые мы будем опираться в своем последующем развитии. Второй шанс даст нам подростковый возраст, в котором также за сексуальностью часто прячутся другие проблемы – об этом в статьях А. Натансон и А. Розовой, А. Телепиной.
Особый раздел номера – анализ современного культурного контекста, который влияет на индивидуальные представления о взрослом/детском, нормальном/патологическом, мужском/женском. Здесь мы обратимся к работам непсихологического поля, и они добавят сложности и объема в восприятии коллективного. Так, философ Н. Артеменко узнаваемо описывает пейзаж современности – с идеей бесконечного роста и умножения возможностей, когда человеку под видом «личностного роста» предлагается «выбирать себя» как на полке супермаркета. И таким же знакомым видится «психологизированное» поколение с возведенными в культ личными границами, установками на удобство в отношениях с другими людьми и самой жизнью. Разговор о специфике поколений продолжает С. Переслегин, вписывая индивидуальное развитие в контекст социального – со сложной системой невидимых психологами экономических, политических, демографических и прочих задач, следствием влияния которых также становятся размывание норм развития… Таким образом, коллективное бессознательное может стать «попутным ветром» или непреодолимым препятствием в развитии идентичности, как мы увидим в клинических и мифологических историях А. Воробьевой и С. Кумченко.
Что все это значит для аналитиков? Об этом – в статье Е. Васильевой «Гендерная индивидуация аналитика», ее цитатой мы и завершим наш разговор: «Быть человеком – это как раз соединять в себе мужское и женское начало. Гендерная индивидуация аналитика – это, конечно, его попытка подняться до человеческого уровня, не убоявшись пугающих, безумных архетипических переживаний».