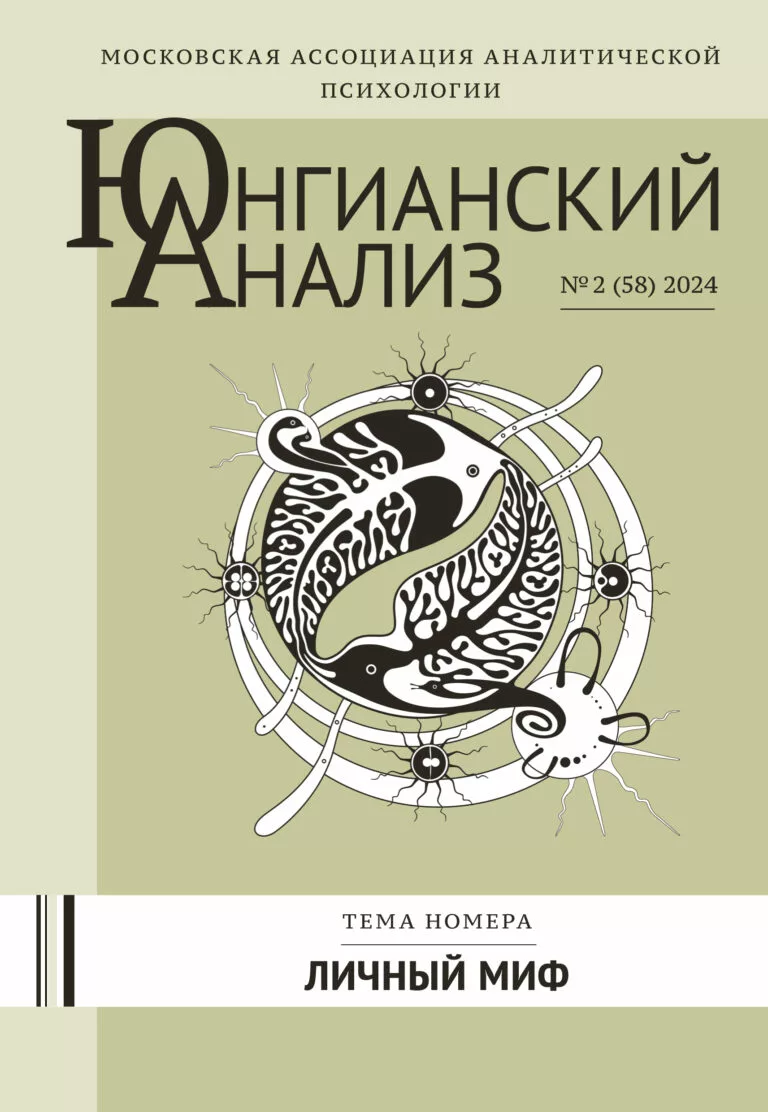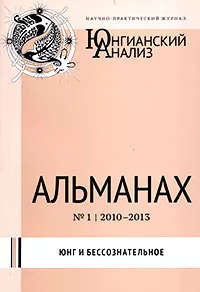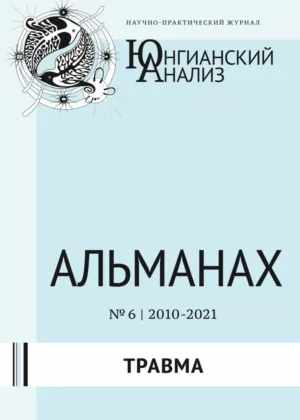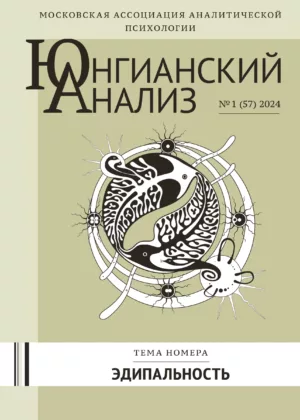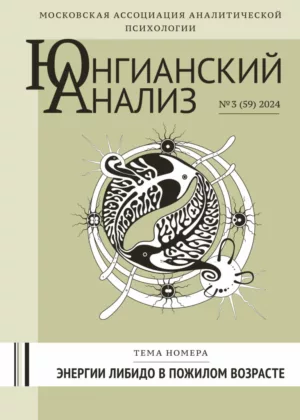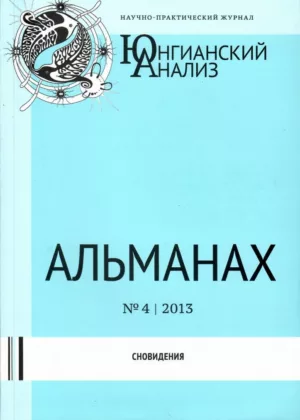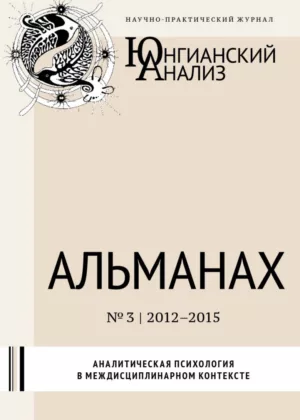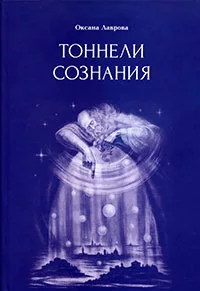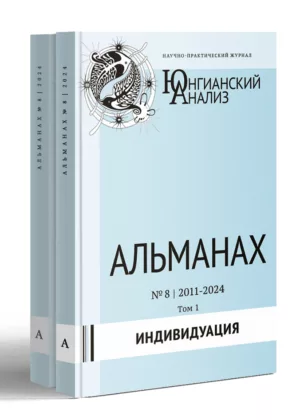Личный миф — мерцающая история, располагающаяся между двумя мирами — общим и частным, коллективным и личным. Это — связующее звено, тропа, мост между человеком и человечеством, между единством и множеством, глубоко индивидуальным и непостижимо универсальным. Это история взаимоотношений человека с миром и его разнообразными слоями, история поисков смысла и передачи его через рассказывание историй. На этом пути, на этой узкой дорожке, ведущей в трансперсональное измерение, располагаются статьи, составляющие этот номер.
Ричард Стромер объясняет нам, как устроен личный миф и как он соотносится с архетипом. Все это станет понятнее и живее, когда мы обратимся к личному мифу самого отца-основателя: Мария-Луиза фон Франц рассказывает о влиянии на личный миф Юнга образов христианской мифологии – поиска Грааля, волшебника Мерлина и других фигур нидивидуации. Марк Сабан анализирует взаимоотношения между личностью номер один и номер два в идентификации Юнга и показывает, как диалог между ними привел к обнаружению трансцендентной функции. А Сону Шамдасани предлагает нам увлекательный рассказ о том, как создавались и издавались автобиографии Юнга, которые оказались вовсе не автобиографичными…
А как создается личный миф обычных людей? Наш, наших пациентов?
Мы услышим историю Мюррея Стайна, которую он рассказал в интервью для Джен Винер — о необычном опыте странничества и укоренения в разных странах и сообществах. Сказкотерапевт Елена Шкадаревич исследует смысл рассказывания историй о пережитом опыте: это создает переходное пространство, путь в символическое измерение, где личный опыт подвергается переплавке. Историк искусства Ирина Полянская сопоставляет цикл фресок о Марии Магдалине с аналитическим процессом нескольких пациенток, иллюстрируя процесс балансирования между двумя противоположными сторонами архетипа.
В резонансе с темой номера начинается новая рубрика Сергея Моргачева – Проблема подлинного Я. Личный миф позволяет соприкоснуться с непознаваемой областью как с частью себя, поэтому нам кажется важной работа Уоррена Колмана, где речь идет о том, что нельзя уловить, познать, а можно лишь пережить в символических образах – о Самости и архетипе Самости. Ли Роббинс рассуждает о юнговском понятии пустоты архетипа и о пустоте Самости, а также о том, чем может быть наполнена эта пустота в буддистском и современном западном понимании.
Статья Лии Киневской добавляет особую — антинарциссическую – ноту в размышления о личном мифе. Она рассуждает о судьбе и предрешенности, о рамках, в которые заключена человеческая жизнь, о служении и призвании, о смысле делания. И все это имеет прямое отношение к профессиональной жизни психологов и аналитическому процессу. Именно эта статья начинает номер, как бы комментируя скромное высказывание Юнга: «Я не знал, что живу мифом, и даже если бы я знал это, я бы не знал, какой миф управляет моей жизнью без моего ведома».
Мария Лосева, Елена Пуртова