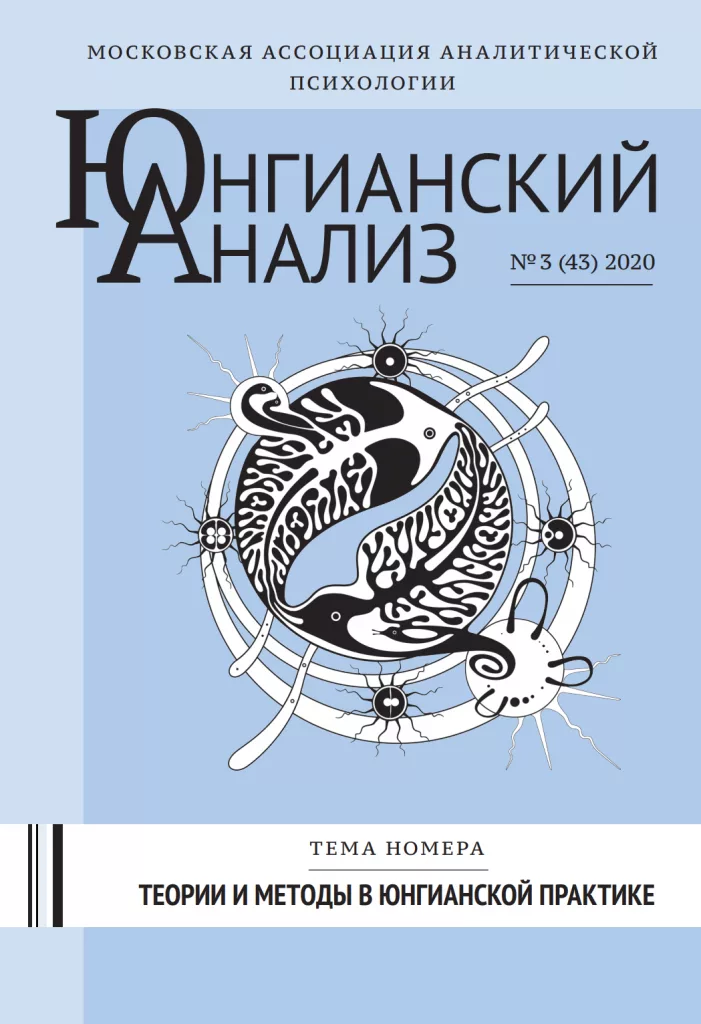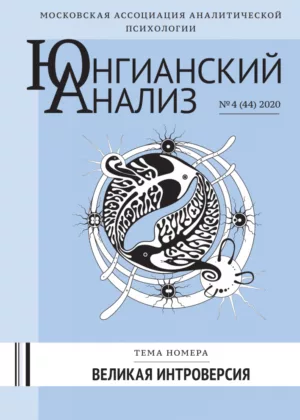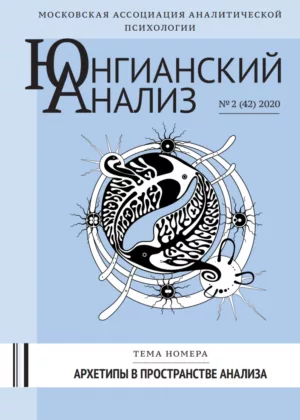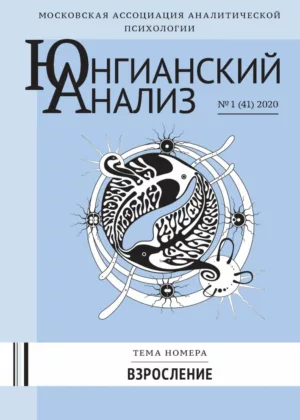Этот номер распадается, или, наоборот, собирается из двух частей, отражая неуловимую порой разницу в психоаналитическом и юнгианском подходах и достраивание одного другим. Методы аналитической психологии с одной стороны – вещь расплывчатая, с другой – единственная возможность для аналитика удержаться на плаву и не утонуть при погружении в недра чужого (и совместного, а также семейного и коллективного бессознательного). Нужны спасательные круги и жилеты – структуры, схемы, таблицы нечто устойчивое, за что можно держаться. Этот номер журнала (равно как и предыдущие) в каком-то смысле та самая твердь в океане, где можно причалить на время, и от которой можно потом оттолкнуться…
Работа Марка Уинборна посвящена интерпретации – самому основному (может, иногда и неполезному) инструменту анализа. «Предмет интерпретации является основополагающим для процесса анализа или аналитической психотерапии» – утверждает автор в первой строке, и далее сравнивает интерпретацию с красками, которыми пациент и аналитик совместно пишут аналитическую картину на холсте аналитического сосуда.
Елена Пуртова показывает, что детские теории развития – совсем «не детские»: в множестве клинических феноменов, ухваченных автором, мы видим паттерны ранних этапов развития, разворачивающихся между терапевтом и клиентом. Клиент не является ребенком, но теория про взросление ребенка задает структуру процесса, высвечивает путь.
Наталья Писаренко и Мария Прилуцкая рассказывают о минус-игре – о такой структуре привязанности, которая является нападением на связи, когда ребенок не вступает в контакт, но имитирует контакт и игру в кабинете аналитика. Ощущая в контрпереносе дефицит и формальность (в том числе и на родительских встречах), аналитик чувствует пустоту, и вот в статье возникает образ пустыни: «Удерживание аналитического взгляда, возможность неиндуцироваться пустотой, попытка построить трехмерное пространство рождают нестабильные всходы, так как в целом пустынная среда неблагоприятна для обычных форм жизни».
Вслед за игрой нас ожидает презентация юнгианских методов работы, в которых главенствует образ: консультирование с использованием карт Таро – в статье Инны Семетски, сендплей и образ змеи – в статье Светланы Семеновой и продолжение мифологического сериала про Инанну Симоны Мацлиах-Ханох.
Самая провокационная работа номера – это статья Биргит Хьюер. Автор исследует коннотации клинического языка, базирующегося на неявно усвоенных идеях, которые не подвергаются рефлексии. Она говорит о микротравмах, которые наносит аналитик пациенту, бессознательно воспринимая его в образе сопротивляющегося изменениям, и тогда работа в глубине своей напоминает военные действия. Иллюстрируя эту идеи конкретным случаем, Хьюер оказывает нам большую услугу, поскольку образ клиента как деструктивного врага, а терапии – как боевых действий по зачистке территории, глубоко заложен в нашей культуре, где положено бороться «с» и «за». В противовес этой тенденции автор предлагает смотреть на пациента «любящими глазами» – как на играющего ребенка.
Мария Лосева, Елена Пуртова